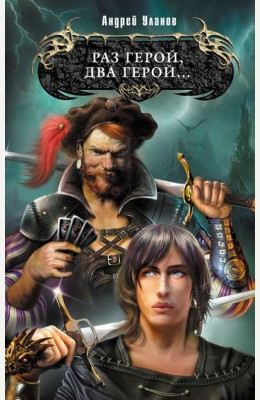
Электронная книга
Раз герой, два герой...
Автор: АнонимКатегория: Фантастика
Жанр: Фэнтези, Юмор
Статус: доступно
Опубликовано: 07-06-2017
Просмотров: 2503
Просмотров: 2503
| Форматы: |
.fb2 .epub |
Цена: 50 руб.
- Аннотация
- Отрывок для ознакомления
- Отзывы (0)
Как становятся Героями, настоящими, бесстрашными, с мечом в руке и принцессой в сердце? У Шаха из Дудинок вышло прям по поговорке: не пей из копытца, козленочком станешь, однозначно. Выпил – и стал. Правда, не совсем козленочком – заснул Шах слегка перебравшим молодого вина деревенским олухом, а проснулся Героем. Скажете, так не бывает? Да, действительно, над Шахом слегка подшутили односельчане, выставив его победителем двух драконов, но ведь он был не в курсе и поэтому сразу отправился подтверждать свою репутацию. И вскоре в том, что Шах – Великий Герой, не сомневался и последний гоблин. Страшные монстры Запустенья затрепетали, опасаясь за свою участь. А дорога к славе так и льнула к геройским стопам. Оставалось только по ней идти…
КАК ГЕРОЯМИ СТАНОВЯТСЯ
Дзыннь!
Почтеннейший дракон Грааугржимерюканг, которого жители семи подвластных ему деревень именовали между собой “древний Грау” или, значительно реже и предварительно убедившись в отсутствии в округе возможных соглядатаев господина дракона, “хитрохвостый”, тяжело вздохнул, отложил в сторону массивную лупу с бронзовым ободом и ткнул в шар указательным когтем правой передней лапы. Шар осветился изнутри, и в нем появилось изображение головы другого дракона.
Увидев эту голову, древний Грау удивленно приподнял правое веко. Он был готов прозакладывать половину своей сокровищницы, что этого дракона он видит первый раз в жизни.
– Брсчшипору куры нагроуж Грааугржимерюканг! – проревела голова.
Древний Грау поморщился.
Здесь необходимо сделать небольшое пояснение. Дело в том, что, хотя драконьему языку и насчитывается неизвестно сколько тысяч лет, когда-то драконы (хотя в этот факт с трудом верится даже гномам) тоже были молодыми. В те времена они вели значительно более активный и… хм… откровенно говоря, бандитский образ жизни, чем теперь. Соответственно использовавшийся ими тогда лексикон был приспособлен именно к характеру и потребностям их тогдашнего, довольно малоприятного для окружающих сообщества. Но с тех далеких времен в драконьи пасти утекло немало вина, и постепенно драконы создали новый язык. На нем было значительно приятнее вести многодневные философские беседы, сидя за бочонками амонтильядо в теплой пещере и прислушиваясь к завыванию зимних буранов снаружи. Помимо прочих достоинств новый язык был недоступен для посторонних – он был так сложен, что первые две сотни лет его изучения уходило исключительно на освоение алфавита, а посему не драконы, пожелавшие научиться этому языку, должны были для начала озаботиться вопросом собственного долгожительства, а желательно – бессмертия.
Однако в отдельных случаях, к которым, как вы сейчас увидите, относился излагаемый, традиция предписывала пользоваться именно древним вариантом драконьего. Хотя уважение к традициям драконы впитывают, еще сидя в яйце, именно это требование доставляло пожилым высококультурным драконам, к которым относился и древний Грау, немалые неудобства. Дело в том, что по современным меркам этот древний язык был весьма нецензурным. Например, та фраза, которую выдувают в рог рыцари, вызывая драконов на бой, в переводе означает примерно следующее: “Посылаю тебя на…”
Итак, голова в шаре произнесла:
– Совсем, блин, совесть потерял, Прохвост.
Древний Грау поморщился.
– Гыкашмур авелом анин, курдбк! (Не по понятиям наезжаешь, молокосос!) – проревел он и, подумав, добавил: – Гыкахым бздым. (А за базар ответишь.)
Дракон в шаре замешкался.
– Быргрым, э-э… покоргум, то есть поркорхум, э-э…
Древний Грау вздохнул еще раз.
– Может, все-таки будем говорить на современном драконьем? – предложил он.
– А как же традиция? – удивился дракон в шаре. – Положено ведь.
– Так по традиции ты мне и до вечера не объяснишь, что тебе надо, – возразил Грау. – Все равно нас никто посторонний не слышит и слышать не может.
– Ну, я прямо не знаю, – замялся дракон в шаре. – Дело-то ведь….
– Чего тебе надо? – прямо спросил Грау.
– Деревню у темно-зелено-дубового леса и заливные луга к ней, – выпалил дракон в шаре, собравшись с духом.
– Ну, ты даешь! – поразился Грау. – А половину моей сокровищницы в придачу тебе не нужно? Я этой деревней владел, когда тебя еще и в кладку не отложили.
– А пусть и так! – запальчиво возразил молодой дракон. – А мне что делать? Только из скорлупы высунулся, только крылья первый раз расправил, глядь, а кругом все уже расхватано, все уже поделено-переделено. А мне тоже, между прочим, жить где-то надо. Я, между прочим, такой же дракон, как и ты.
– Я вовсе не подвергаю сомнению подлинность твоего драконства, – примирительно сказал Грау. – И я всегда сочувствовал проблемам нашей молодежи. Но только не в том случае, когда эту проблему пытаются решить за счет моих владений. Сначала одна деревня, потом – вторая, а дальше? И вообще, почему ты выбрал для предъявления своих претензий именно меня? В дне полета, за Кривым холмом направо, один вампир живет, граф, так у него целых двадцать деревень. Почему бы тебе к нему не слетать?
– Ну уж нет, – твердо возразил молодой дракон. – Меня так уже не первый раз посылают. Короче, – он скосил глаза, стараясь не смотреть в сторону старого дракона, – назначаю тебе эту, как ее… разборку и забиваю эту самую… стрелку. Завтра утром на большом лугу за рекой.
Шар погас.
* * *
Большой луг за рекой, на котором было намечено Проведение недружественной встречи двух драконов, находился неподалеку от одного из человеческих поселений Запустенья и использовался местными обитателями для выпаса скота. Деревня называлась Дудинки.
Почему – точно не знал никто. Жители деревни туманно намекали на загадочную легенду, уходящую своими корнями в те невероятно далекие времена, когда деревья были большими, драконы еще не вылупились, а состояние Доставаки Билла не превышало десяти тысяч золотых. Однако поведать эту легенду посторонним они категорически отказывались. Жители окрестных деревень не менее туманно намекали на куда более позднюю и не совсем пристойную историю, в которой упоминался мул одного из дудинских Отцов Основателей, но поручиться за достоверность этой истории также не могли.
Именно дудинские пастухи в одно, вне всякого сомнения, доброе и прекрасное утро обнаружили на своем лугу двух мертвых драконов.
– Вот те на! – озадаченно сказал Старший Пастух Гоут Ктовец, обозревая поле жестокой битвы, в которое превратился его лучший выпас.
– Сдается мне… – начал один из пастухов.
– Ну?
– Один из ентих драконов…
– Который?
– Тот, что с краю.
– Ну?
– Смахивает на Старого Грау, то есть, – пастух испуганно оглянулся, – виноват, на господина Грааугржимерюканга.
– Врешь, – на всякий случай сказал Гоут, приглядываясь к крайнему дракону повнимательнее.
Основания усомниться в словах подчиненного у него были.
Во-первых, Старый Грау хотя и являлся полноправным властителем Дудинок, но очень не любил без особой необходимости покидать свою пещеру и показывался своим подданным на глаза только по самым большим праздникам. А они случались редко. За всю свою жизнь Старший Пастух удостоился чести лицезреть господина Грау всего два раза, причем в первый раз Гоуту Ктовцу было пять лет, а второй раз – двадцать восемь. Кроме этого, Гоут двенадцать раз видел драконов или кого-то очень похожего на них пролетающими высоко в небе, а один раз какой-то красный дракон приземлился на выгон, сожрал двух коров и пяток овец, нахлебался воды из реки и улетел, оставив на память о себе огромную кучу самого что ни на есть отборнейшего драконьего дерьма – вещи, ни на что, к сожалению, не пригодной и ужасно вонючей. К вящей радости Гоута, произошло это во время дежурства его сменщика – Второго Старшего Пастуха.
Во-вторых, хотя бой между драконами проходил согласно Уложению о Разборках, том 1, глава 18, параграфы с 1 по 25 включительно: “Допустимые средства мордоначищенья” – зубы и когти, никакого огненного дыхания и магических штучек, разрешено затачивать шипы на хвосте, если таковые имеются от рождения, а не выращены с помощью магии, – так вот, когда этими зубами и когтями, а также крыльями орудует здоровенный бронированный ящер, то получившееся в итоге бездыханное тело поддается опознанию весьма приблизительно. Даже если это тело такого же здоровенного бронированного ящера.
Так и не придя ни к какому определенному выводу, Гоут в итоге принял самое простое и естественное решение – переложить тяжесть принятия этого самого решения и связанную с ним ответственность на кого-нибудь другого.
– Значица, так, – повернулся Гоут к остальным пастухам. – Ты, ты и ты – бегом в деревню. Расскажете обо всем, что видели. Луки оставьте здесь.
В этом месте снова необходимо прервать ход повествования и кое-что пояснить.
Пастушеский отряд, находившийся под командованием Гоута Ктовца, насчитывал в своем составе четырнадцать человек и по вооружению и боевой выучке ничуть не уступал равночисленному отряду наемников, равно как и регулярной армии любого из Королевств. Как было экспериментально установлено людьми, имеющими несчастье обитать в Запустенье, это было совершенно необходимым условием для успешного выпаса деревенского стада, представляющего собой в глазах большинства лесных обитателей офигенную груду МЯСА.
О том, что являет собой Запустенье и кто в нем живет, рассказываться будет на протяжении всей книги. Вкратце же лучше всех сформулировал это странствующий друид Лайлак Дуболом: “Так называемое Запустенье – это место, где природа и магия совместно напомнили существам, мнящим себя разумными, что если долго и упорно дергать кого-нибудь за хвост, то на другом конце хвоста может объявиться его владелец”.
Так вот, расстояние, отделяющее выгон от ворот в укрепленном частоколе, который жители Дудинок именовали “оградой”, легко одетый подросток преодолевает бегом за восемь минут. Троим взрослым мужчинам в доспехах времени на это потребовалось вчетверо больше.
Нельзя сказать, чтобы новость о возможной кончине старого Грау обрадовала Дудинского старосту Вислоуха Обера очень уж сильно. Можно даже сказать, что она обрадовала его не совсем.
Дело даже не в том, что Вислоух вообще не любил новостей. Все-таки, будучи верховной деревенской властью, он волей-неволей должен был выработать определенную широту кругозора. Он даже допускал, что новости иногда бывают и хорошие. Более того, однажды он предположил, что, возможно, где-то хороших новостей бывает не намного меньше, чем плохих.
Но весть о предполагаемой кончине Грау – это Вислоух мог сказать абсолютно точно – относилась к разряду тех, которых Обер предпочел бы не получать вовсе.
С одной стороны, конечно, взимаемые, точнее, выжимаемые Грау налоги ложились весьма тяжким бременем на тощий дудинский бюджет. Однако, с другой стороны, Грау был злом очень хорошо – за последние триста с лишком лет – известным и знакомым, а вот его будущий преемник, который непременно объявится в очень близком будущем, – нет. И вообще: “Лучший способ избавиться от драконов – это завести своего”.
Припомнив в очередной раз это, давным-давно подслушанное им на ярмарке и запавшее глубоко в душу высказывание, староста вдруг вспомнил, что у их бывшего господина имелись родственники. Другие драконы. Которые, кстати говоря, могут весьма заинтересоваться обстоятельствами гибели своего, пусть и далекого, родича.
А раз так – требовалось незамедлительно принять все возможные меры, дабы господа драконы чего-нибудь…
Например, обеспечить господину Грааугржимерюкангу достойные похороны. А заодно и его сопернику – на всякий случай.
* * *
Додуматься до идеи вырыть “достойную” могилу двум, причем не самым мелким при жизни драконам, как выяснилось, намного легче, чем воплотить ее в жизнь.
– Клянусь дохлым огром, – выдохнул Жаба Партигген, с трудом переваливая содержимое своей лопаты через край ямы, – так мы и до завтрашнего утра не управимся.
– Вот еще – до утра, – отозвался Ушастый Вассеризель. – Как бы не так. Чего бы там Обер не изрекал, – на самом деле Ушастый выразился грубее, – а на этом поле меня после захода солнца и в помине не будет.
– Если до захода не успеем зарыть, – поддержал его Маультир, – то на эти туши такое сбежится… Такое…
– Угу, – согласился Жаба, вываливая очередную лопату. – Еще бы. Шоб на такие туши – и не сбежалось?
– Как я так смекаю, – задумчиво произнес Кругляк Зенгер, – что на частокол ныне, ну, в смыслах, ентой ночью, надо будеть двойную стражу поставить. Иль тройную – для пущего спокоя.
– “Для спокоя, для спокоя”, – передразнил его Вассеризель. – Будет тебе спокой, как же. Вот теперешнюю стражу бы сюда – тогда, глядишь, аккурат к темноте бы и закончили.
– А на частокол кого?
– Баб. Твою, к примеру, женку… – Ушастый заржал. – Как возьмет оглоблю…
Остальные – за исключением, понятно, самого Кругляка – тоже заулыбались, живо припомнив, как не далее третьего дня Зенгерова жена гонялась за муженьком по всей деревне, размахивая при этом если не оглоблей, то уж здоровенным дрыном наверняка, и поминутно охаживая этим самым дрыном точно промеж кругляшиных ушей.
Впрочем, надолго этих приятных воспоминаний не хватило.
– Обера бы сюда, – мстительно процедил Хромой Таузендфус, с остервенением вгрызаясь лопатой в неподатливую глину. – Пусть бы поковырялся. Глядь, жир бы и подрастряс.
– И то верно. – Партигген перевалил наверх очередную порцию грунта, воткнул лопату в дно ямы, оперся на нее и попытался рукавом рубахи стереть с лица пот, но добился исключительно того, что покрывавший его рожу слой грязи распределился по ней чуть более равномерно. – Пусть бы и сам староста эту землицу поковырял. Небось не загнулся бы от напряга. А то…
– Нет, ну клянусь дохлым орком! – взвился Ушастый. – Стража на частоколе, Вислоух, кузнец с подмастерьем, старичье, звонарь… Это ж сколько народу еще можно сюда пригнать! Так нет же! А мы тут надрывайся, как неродные!
– Шаха еще нет, – сообщил Маультир.
– Как нет?! – возмутился Вассеризель. – Почему нет?
– А он еще того… После вчерашнего… Дрыхнет еще, – ехидно заметил Жаба. – Небось до вечера так и проваляется.
– Проваляется?! – Ушастый швырнул лопату под ноги и принялся выбираться из ямы. – Я ему сейчас покажу “проваляется”! Я его всю дорогу до пастбища на пинках…
– Стой! – Кругляк попытался придержать Ушастого за край рубахи, но получилось это у него не совсем удачно – Вассеризель съехал вниз вместе с полупудом земли, за которую он цеплялся. – Праздник же у парня.
– Праздник был вчера, – хмуро заметил Жаба. – И вообще – пить надо меньше. А то дорвался, понимаешь. Правы были Отцы-Основатели – рано вас, сопляков, в семнадцать к спотыкаловке подпускать.
– Это его дядюшка Короед постарался, – встрял Маультир. – Выставил бочонок молодого вина, ну, того, что в позапрошлом месяце с ярмарки привез. А у него, у вина-то, нрав ведь известно какой коварный – льется в пасть, словно вода родниковая, а потом бах – и с копыт долой. А Шах-то…
– Сам-то ты, – проворчал Партигген, – можно подумать, давно усами обзавелся. Думаешь, девки не видят, что они у тебя углем подведенные?
– Ха! – Ушастый наконец выкопался из-под устроенного им обвала, но, к немалому удивлению остальных, не стал извергать по этому поводу проклятий, а наоборот – радостно осклабился.
– Я тут подумал, – сообщил он. – А ведь во всех Дудинках один Шах про это, – Ушастый мотнул головой в сторону драконьих туш, – ничегошеньки не знает. Вот смеху-то будет, когда он вечером проснется!
На этой реплике достоверно восстановленный ход беседы обрывается и вряд ли когда-либо будет продолжен. Если до нее показания всех говоривших были четкими и непротиворечивыми, то после слов “вот смеху-то будет” они моментально становятся сбивчивыми и путаными. Поэтому точно определить, кому же именно принадлежала та злосчастная идея, оказавшая столь большое влияние на дальнейшую судьбу как дудинцев, так и многих других обитателей Запустенья и иных земель, установить невозможно. Может быть (и даже вероятно), тайна сия ведома богам, но, как известно, боги очень неохотно делятся своими тайнами с кем бы то ни было, в том числе и с другими богами.
* * *
За всю свою жизнь Шах никогда раньше не предполагал, что самый обычный луч солнца – не такой уж и яркий – может вызвать столь жуткий приступ боли, причем не только в глазах, но и в голове. Вслед за головой взвыло все остальное тело. Шах было попытался озвучить эти ощущения соответствующим воплем, но звук, который он сумел выдавить наружу, даже за слабый стон мог сойти лишь с очень большой натяжкой.
– Вроде просыпается, – произнес кто-то, стоявший в изголовье, и эти слова мигом принялись грохочущим эхом носиться от одного шахова уха до другого: “Просыпается, просыпается, рыпается, ается…”
– Точно, просыпается, – согласился второй голос. – Ишь, какую рожу-то скорчил. Ему б щас кисленького чего-нибудь али солененького.
– Да где ж я после вчерашнего-то возьму солененького с кисленьким? – возразил первый голос, в котором Шах, несмотря на громыхание, начал узнавать что-то до боли – и еще какой! – знакомое. – Все, почитай, что было, то и подмели. Разве что у соседей спросить…
– И то верно. Слышь, Хеннок, сгоняй-ка к Плющикам…
Прозвучавшие имена показались Шаху смутно знакомыми, но попытка вспомнить что-либо поподробнее немедленно аукнулась еще более жутким приступом головной боли.
– Но я ж тоже хочу видеть…
– Цыц! – прикрикнул второй голос. – А ну дуй… Когда старшие говорят.
До Шаха донесся дробный топот, после чего на некоторое время воцарилась совершенно замечательная, можно даже сказать, блаженная тишина.
В какой-то момент Шах даже попытался провалиться обратно в забытье, из коего его вывело нечто холодное и мокрое, настойчиво тыкавшееся прямо в губы.
– Откушай огурчика-то, – настырно бормотали сверху. – Он хороший, огурчик-то. Враз полегчает.
Невероятным усилием Шах сумел разжать стиснутые намертво зубы и даже слегка прикусить просунувшийся между них предмет.
Первая капля холодного огуречного рассола, попавшая на раскаленную пустыню языка, должна была, по идее, немедленно испариться. Но за ней последовали другие, которые проделали в пересохшей гортани Шаха восхитительно влажную дорожку.
– Ы?
Так и не выпустив из зубов огурец, Шах медленно сел и попытался приоткрыть глаза.
Собравшиеся в комнате, числом не менее десяти, дудинцы переглянулись между собой и дружно начали выпихивать вперед дядюшку Подсмейла Корюшку.
– А… А чего я… – вяло попытался отбиться он.
– Тише! – зашикали на него. – Договорились же.
Одарив своих сообщников особо многообещающим взглядом, дядюшка Подсмейл встал перед Шахом, терпеливо дождался, пока тот сфокусирует на нем взгляд замутненных голубых глаз, набрал в грудь побольше воздуха и начал:
– Дорогой Шах! Нет таких слов, какими мы, твои односельчане, могли бы выразить переполняющее нас восхищение. Своим геройским – да, я не побоюсь этого слова, ибо другое здесь неуместно, – именно геройским поступком ты потряс наши души до самого их основания. Никто из нас, – Корюшка широким жестом обвел комнату, – даже и помыслить не мог о том, чтобы в одной деревне с нами мог родиться и вырасти человек, способный на такое! Мы все, как один человек…
– А?
Дядюшка Подсмейл на миг запнулся.
– То, что ты совершил, – снова начал он, старательно пытаясь перекрыть нарастающее за спиной хихиканье, – навсегда…
– А-а… Я что-то совершил? – заплетающимся языком осведомился Шах.
В комнате повисла мертвая тишина.
– Кхы-кхы-кхы, – нарушил ее стоящий справа от Корюшки Нитрам Рожь, старательно пытаясь запрятать за кулаком растекающуюся до ушей ухмылку. – Вообще-то ты…
– Совершил самое великое на моей памяти деяние, – возвысил голос дядюшка Подсмейл, краем глаза с ужасом наблюдая, как трясущийся от хохота Нитрам перегибается пополам.
– Ты принес нам самый дорогой дар, который только есть на этом свете – свободу!
– Какую… свободу? – выдохнул Шах.
Даже сквозь туманную завесу продолжавшейся головной боли до него начало доходить, что вокруг происходит что-то глубоко не то. И именно он является центром этого самого происходящего “не того”.
– Свободу от самого гнусного, зловещего, коварного и ужасного поработителя, какого только знал Мир! – громко, ибо смешки за спиной также становились все громче и громче, провозгласил Корюшка. – Древнего проклятья наших предков, нас и благодаря тебе уже не наших детей – черного дракона Грааугржимерюканга!
– Ч-чего?
– …Без всякого оружия ты вышел на ратное поле и голыми руками одолел саму смерть, мчавшуюся на тебя с распахнутыми крыльями. И когда первый дракон рухнул с небес…
– Гляньте! – выкрикнул стоявший в углу Эмиль Глаумат, который ясно чувствовал: еще одно слово, еще миг речи дядюшки Подсмейла, и он сам не хуже дракона рухнет и забьется в истерике. – Его руки! На них нет даже царапин! Это чудо!
– Чудо! Чудо! – подвывающими голосами поддержали его остальные. – Истинное чудо!
Дядюшка Подсмейл схватился за горло, словно собрался придушить себя на месте.
Кто-то снаружи заколотил по окну.
– В самом деле, – прохрипел Корюшка, продолжая хвататься за горло. – Там же все, почитай, Дудинки собрались. Народ, понимаешь, хочет видеть и знать своих героев.
– Боги, – простонал Шах. – Дядюшка Подсмейл, о чем вы? Опомнитесь. Я… Старый Грау… Герой… Я же ничего не понимаю!
– А тебе, – заявил Нитрам Рожь, – вовсе и не надо ничего понимать. Ну-ка, парни, помогите герою подняться.
На крыльце свет был еще более убийственно ярким, но, прежде чем Шах успел зажмуриться, на него с визгом налетело что-то цветное и пахучее, яростно расцеловало в обе щеки, впилось в губы и напоследок повисло на шее.
– Шахок! – радостно завопило это “что-то”, и Шах с ужасом осознал, что Морри Харрикейн, Морри-Тайфун, одна из самых красивых девушек села, о робком прикосновении к которой он до сегодняшнего дня лишь тайно мечтал, висит у него на шее.
– Я всегда знала, что ты станешь кем-то великим. И… – Морри несколько раз моргнула своими синими глазами и потупила их – не из скромности, как подумал Шах, а исключительно для того, чтобы не дать ему разглядеть плясавшие там смешинки. – Знаешь, на самом деле ты мне уже давно нравился. Честно-честно.
– Морри, – если бы Шаха не поддерживали, он бы рухнул прямо на крыльце вместе с девушкой. – Я…
– Дорогу старосте! Дайте пройти старосте!
Собравшаяся вокруг толпа чуть раздалась, и из нее важно выплыл Обер – в праздничном церемониальном наряде, надевавшемся им всего несколько раз в год.
– С-староста, я… – успел побулькать Шах, прежде чем Морри заткнула ему рот очередным поцелуем.
Вислоух спокойно дождался окончания поцелуя, поднял вверх священный посох Отца-Основателя и, запрокинув голову, провозгласил:
– Слава герою!
– Слава! – подхватила толпа вокруг. – Слава! Слава! Обер терпеливо подождал, пока крики и свист постепенно затихли.
– Я очень рад, – начал он, – что именно в этот год, год моего скромного управления, среди нас нашелся человек, чье имя и подвиг, вне всякого сомнения, прогремят на весь Мир. Ибо даже в древних летописях эльфов немного отыщется деяний, каковые могли бы сравниться с тем, – посох описал плавную дугу и обвиняюще уставился на Шаха, – что совершил сей отважный юноша.
– Б… Боги… – простонал Шах.
На какой-то миг его озарила спасительная мысль, что все происходящее – это просто сон, вызванный все тем же злосчастным молодым вином. Но все вокруг было настолько ярким и реальным…
– Так пусть же герой, – провозгласил староста, – сам посмотрит на дело рук своих. Слава герою! Слава!
– А-а-а! – отозвалась толпа, вознося Шаха над собой.
Пару часов назад, когда стало окончательно ясно, что закончить рытье могил до наступления темноты не представляется возможным, Обер приказал прекратить раскопки и бросить все силы на сооружение временного частокола вокруг туш. Поэтому тела обоих драконов предстали ошеломленному взору Шаха во всей своей первозданной красе. – Но… как… кто…
– Ты, ты! – дружно заверила его группа поддержки.
– Нет! – в отчаянии Шах схватился за голову. – Нет, этого просто не может быть!
– Но ведь есть! – проорал ему кто-то в самое ухо и для пущей убедительности подкрепил свои слова могучим шлепком по спине.
– Но я этого не помню! – завопил Шах.
– Зато мы помним! – проорал все тот же голос. – А нам, твоим односельчанам, виднее, чего ты делал, а чего – нет!
– Либо я сошел с ума, – пробормотал увлекаемый поближе к драконьим телам Шах, – либо свихнулись все вокруг.
Он не вспомнил еще об одной, наиболее вероятной возможности – свихнуться мог сразу весь мир.
* * *
Перед самым рассветом с западной стороны дудинского частокола слетел какой-то небольшой предмет, при более пристальном рассмотрении оказавшийся полупустым дорожным мешком. Дежурные на башнях, занятые в основном придерживанием челюстей во время очередных зевков, не заметили ни его, ни маленькой серой фигурки, ловко спустившейся следом.
Шах – а это был именно он – подхватил мешок и опрометью рванулся к темневшим неподалеку зарослям бесополоха.
Спустя пять оч-чень долгих для него минут он выбрался на один из двух трактов, кое-как соединявших Дудинки с остальным Миром, и в последний – как он сам наивно полагал – раз оглянулся на родное селение.
– Я должен, – пробормотал Шах. – Я должен, должен, должен.
Кому, что и сколько именно он должен, не знал ни сам Шах, ни даже боги. Однако если бы эти боги вдруг захотели наградить его даром магического взора, то, обернувшись, Шах без особого труда смог бы различить на фоне разгорающегося восхода растянутый в радостной ухмылке лик Судьбы.
Как известно, этот жестокий бог тоже иногда любит пошутить.
* * *
В пылу боя Шон даже не заметил, что его убили.
Конечно, кое-кого этот факт может весьма сильно удивить. Смерть, причем не чья-нибудь, а своя собственная, – вещь, которую не заметить довольно сложно при всем желании. Однако наш мир, сотворенный кучей различных богов, каждый из которых преследовал при его создании свои собственные цели, порой ведет себя весьма загадочно, а уж Запустенье и вовсе не из тех мест, где можно рассчитывать на то, что загробная жизнь будет хоть самую малость поспокойнее догробной.
Итак, меч Черного Паладина сверкнул на солнце перед самым лицом Шона, и… вроде бы ничего не произошло. Шон даже не успел удивиться. Он продолжал драться, тем более что Черный Паладин, проведя один удачный выпад, вдруг замер, уставясь на что-то, возникшее у Шона за спиной. Простоял он так не больше мига – именно столько потребовалось Шону, чтобы разрубить его от плеча до поясницы, после чего Шон прыгнул вперед, разворачиваясь на лету.
В первый момент ему показалось, что Черный Паладин просто пытался сблефовать – ни черного дракона, ни плевоскропа, ни даже завалящего колдунца на поляне не наблюдалось. А затем Шон увидел на окровавленной траве свое собственное тело и голову – отдельно от него.
Зрелище было еще то.
Шон с размаху плюхнулся на землю и старательно потряс головой, не той, понятно, что лежала на земле отдельно от тела, а той, которая по какому-то неизъяснимому капризу богов оставалась у него на плечах.
– О-хо-хо-хо-хо…
Он внимательно осмотрел себя. Одежда на “нем” была точь-в-точь такая же, как и на безголовом трупе. Руки по-прежнему сжимали рукоять меча, привычно ощущая каждую шероховатость.
– Б-р-р-р!
Есть от чего свихнуться. Шон огляделся вокруг в поисках лошади Черного Паладина, из-за набитых седельных сумок которой и начался бой. Если в этих сумках завалялась бутыль хоть какого-нибудь вина… Да хоть чертова эликсира! Любой жидкости, которой можно промочить горло! Однако проклятой твари нигде не было видно.
Шон заскрипел зубами.
– Ну почему это должно было случиться именно со мной?
– А почему бы и нет? – отозвался кто-то рядом с Шоном и сам же ответил: – По кочану.
Шон вскочил, рубанул по останкам Черного Паладина и заозирался вокруг.
– Ну, чего прыгаешь, как козел? – грубо осведомился неизвестный.
– Да кто ты такой? – взвыл Шон. – Покажись, прах тебя побери!
– Прах меня и так поберет, – откликнулся голос. – А показаться я не могу. Облика у меня нет. Я – твой Совесть.
– Врешь. Совесть я пропил в день, когда мне стукнуло тринадцать.
– Тогда ты меня пропил в первый раз, – обвиняющим тоном заявил голос. – Последний – когда тебе исполнилось сорок три. А всего за эти годы ты пропивал, проигрывал в карты, топил в реке, душил, закапывал, травил и умерщвлял меня десятками иных способов четыреста тридцать семь раз.
– Живучий же ты гад, – заметил Шон.
– Еще бы, – мрачно отозвался голос. – Я же не чей-нибудь, а великого героя Шона А'Фейри. Знаменитой на все Запустенье Рыжей Погибели. Еще бы мне не быть живучим.
– А что ж ты молчал до сих пор?
– А ты хоть раз дал мне заговорить? – возмутился Совесть. – За всю жизнь ты не совершил ни одного совестливого поступка.
– Как же! – обиделся Шон. – Не далее как неделю назад я по пьяни подарил одной шлюхе кошель с десятью золотыми!
– И это ты называешь совестливым поступком?! – Если бы Совесть все-таки имел телесный облик, то этому облику сейчас угрожала серьезная опасность лопнуть от возмущения. – Да ты… ты…
– Теперь я понимаю, почему после двух кувшинов меня всегда тянуло стать проповедником, – проворчал Шон. – Не иначе как твое влияние.
– Одно меня радует, – заявил Совесть. – Я от тебя наконец избавился.
– Это почему же?
– Да потому, – завопил Совесть, – что у покойников нету совести. А ты покойник, покойник, покойник, покойник…
Судя по интонации вопля, если Совесть и сожалел о чем-то, так это о невозможности сплясать на Шоковых останках что-нибудь зажигательное.
– Ктрегуруп, – выдал Шон одно из своих любимых ругательств, которое в переводе с современного драконьего означало: “Три тысячи необычайно крупных клопов-вонючек, сдохших примерно неделю назад”.
– Если я покойник, то что “это”?
– Твое тело, баран.
– А я?
– А ты, – медленно, смакуя каждое слово, произнес Совесть, – просто ничтожный, жалкий, никому не нужный призрак. И я страшно рад, что из всех наложенных на тебя проклятий великие боги решили остановиться именно на проклятии Федыркжчинса!
– Какое, какое проклятье? – переспросил Шон.
– Федыркжчинса, – повторил Совесть. – Того самого старого, больного, несчастного дракона, которого ты со сворой тебе подобных убил в самом начале своей карьеры за пригоршню, о нет, даже не золота – серебра!
– Ты хочешь сказать, – взвыл Шон, который наконец вспомнил старого дракона, равно как и сумму, доставшуюся ему после дележа сокровищницы, – что я обречен леший знает на что из-за тридцати сребреников? Да на это даже бога приличного не купишь!
– Именно, – сказал Совесть и исчез. Некоторое время Шон тупо вслушивался в окружающую тишину.
– Старый навозный жук, – выругался он после продолжительного молчания. – По справедливости ты должен был быть на моем месте. Ведь это ты, мой Совесть, должен был за все отвечать!
Однако Совесть Шона уже не интересовался мнением своего бывшего хозяина. Он был далеко-далеко, в том заманчивом раю, куда попадают Совести всех подонков, мерзавцев, прелюбодеев и прочего неприятного в общении люда и нелюда. Учитывая те муки, которые Совесть снес за время жизни Шона, его в этом раю должны были как минимум канонизировать.
Шон посидел еще немного, прислушиваясь, не пожелает ли еще кто-нибудь сбежать с затонувшего корабля, но остальные чувства либо еще не обрели столь ярко выраженную индивидуальность, либо предпочли удалиться молча.
Мысли, которые заходили навестить Шона в сей скорбный час, были сплошь мерзкие и гадостные. То есть те, которые может навеять вид собственного обезглавленного тела. В конце концов Рыжей Погибели это надоело, и он решил, что было бы совсем неплохо похоронить себя.
Хотя при жизни Шон никогда бы не называл в числе своих загробных занятий рытье могилы самому себе, справился он с этим довольно быстро. Могилу он выкопал глубокую и, как решил Шон, вполне уютную. Поверх своих бренных останков он насыпал величественный холм, вершину которого увенчал мечом, после чего отошел полюбоваться на дело рук своих. Получилось – неплохо.
Но, чем больше Шон смотрел на свою могилу, тем больше грызло его какое-то смутное беспокойство. Что-то во всем этом было неправильно.
В конце концов Шон оглянулся по сторонам, вздохнул, выдернул меч из холма и повесил его на спину, точь-в-точь как он это делал при жизни. Стороннему наблюдателю, если бы таковой присутствовал, показалось бы, что меч повис в воздухе.
– Ты-то как лежишь, так и будешь лежать, – сказал Шон могильному холму. – А мне добрый меч пригодится. Еще.
Возможно, лежащий в могиле покойник и мог бы возразить что-либо по этому поводу, но Шон не стал проверять – случится это или нет. Он повернулся и, не оглядываясь, зашагал прочь.
* * *
На вурдалака Шон наткнулся у самой дороги. Тот был настолько увлечен своим занятием – сидением в засаде, что вряд ли заметил бы Шона, даже если бы тот был живым и во плоти. Впрочем, хотя сам Шон теперь спокойно проходил сквозь любые заросли, висевший на его спине меч цеплялся за них ничуть не хуже, чем его хозяин при жизни. Однако, как уже было сказано, вурдалак был очень занят.
Надо заметить, что вурдалаки пользуются заслуженной нелюбовью всех, включая даже сородичей по кровопийству. Дракон, демон, человек, гоблин или вампир при встрече с вурдалаком поведут себя совершенно одинаково – прибьют его на месте. Единственное, что может удержать разумное существо от убийства вурдалака, – это уровень свойственной этому существу брезгливости.
Вурдалак, на свое несчастье оказавшийся на пути у Шона, был редкостно отвратен даже по сравнению со средним представителем своего вида. Выглядел он как жертва Магии Массового Поражения, причем всех пяти видов одновременно. Кожа его – точнее, те ее куски, которые еще сохранились, – была бледно-серого цвета в зеленых пятнах. Впрочем, кожа вурдалака – это единственная его часть, на какую можно было смотреть, не рискуя лишиться всего выпитого и съеденного, начиная со вчерашнего ужина.
Занят же этот омерзительный тип был тем, что, тихо шипя и приплясывая на месте от нетерпения, поджидал, пока его ни о чем не подозревающий обед подойдет поближе.
Однако именно в тот момент, когда вурдалак приготовился к прыжку, на его горле внезапно сомкнулись две невидимые, но вполне реальные ладони. И последнее отвратительное дело, которое упырь успел сделать в своей жизни, – это умереть под противный хруст ломаемых шейных позвонков.
На всякий случай Шон продолжал откручивать голову твари до тех пор, пока она с мерзким чавкающим звуком не оторвалась от тела, после чего зашвырнул ее подальше в заросли, а тело разрубил на несколько десятков кусков. Для полной гарантии невоскрешения твари надо было бы развести под этими кусками хороший костер, но, во-первых, лето выдалось на редкость сухое, и небольшой погребальный костер мог запросто перерасти в здоровенный лесной пожар, а во-вторых, добыть огонь Шону было нечем. Поэтому он ограничился тем, что нанизал останки вурдалака на сучья соседних деревьев. В этом случае жаркое летнее солнце должно было стать его союзником, так как воскреснуть из вяленой вурдалачины ничуть не менее затруднительно, чем из хорошо прожаренной.
Завершив изничтожение мерзкого отродья, Шон наконец обратил внимание на бедного странника, который только что едва не удостоился сомнительной чести стать главным и единственным пунктом обеденного меню.
Странник, выглядевший, как самый обычный деревенский паренек, медленно брел по дороге, усиленно оглядываясь по сторонам и шарахаясь то вправо, то влево – в зависимости от того, с какой стороны дороги доносился очередной стра-ашный звук.
Пареньком этим был Шах.
Нельзя сказать, чтобы вид Шаха удивил Шона очень сильно. В конце концов, Шон А'Фейри и при жизни-то мало чему удивлялся, а уж приключившееся с ним за сегодняшний день даже у эльфа могло начисто отбить способность удивляться чему-либо. Однако вид Шаха его, скажем так, заинтересовал.
Дело в том, что передвигаться по дорогам Запустенья было, мягко говоря, небезопасно. Кроме разнообразной лесной живности и нежити, мечтающей в основном о завтраке, плавно переходящем в ужин, на дорогах Запустенья встречались:
Герои. Как явствует из примера Шона, встреча с героем, особенно героем поиздержавшимся, могла весьма нежелательно сказаться на здоровье встретившегося.
Разбойники. Банды разбойников могли состоять как из существ одной расы: людей, орков, гоблинов или темных эльфов, так и быть смешанными. Кроме этого, были банды, объединявшие, например, верующих в какого-то одного бога, банды, состоящие из бывших наемников, окончательно утративших статус воинского подразделения, а также банды амазонок. С теми, кто им попадался, разбойники поступали по-разному, однако процент выживших практически всегда оставался прискорбно низок.
Дзыннь!
Почтеннейший дракон Грааугржимерюканг, которого жители семи подвластных ему деревень именовали между собой “древний Грау” или, значительно реже и предварительно убедившись в отсутствии в округе возможных соглядатаев господина дракона, “хитрохвостый”, тяжело вздохнул, отложил в сторону массивную лупу с бронзовым ободом и ткнул в шар указательным когтем правой передней лапы. Шар осветился изнутри, и в нем появилось изображение головы другого дракона.
Увидев эту голову, древний Грау удивленно приподнял правое веко. Он был готов прозакладывать половину своей сокровищницы, что этого дракона он видит первый раз в жизни.
– Брсчшипору куры нагроуж Грааугржимерюканг! – проревела голова.
Древний Грау поморщился.
Здесь необходимо сделать небольшое пояснение. Дело в том, что, хотя драконьему языку и насчитывается неизвестно сколько тысяч лет, когда-то драконы (хотя в этот факт с трудом верится даже гномам) тоже были молодыми. В те времена они вели значительно более активный и… хм… откровенно говоря, бандитский образ жизни, чем теперь. Соответственно использовавшийся ими тогда лексикон был приспособлен именно к характеру и потребностям их тогдашнего, довольно малоприятного для окружающих сообщества. Но с тех далеких времен в драконьи пасти утекло немало вина, и постепенно драконы создали новый язык. На нем было значительно приятнее вести многодневные философские беседы, сидя за бочонками амонтильядо в теплой пещере и прислушиваясь к завыванию зимних буранов снаружи. Помимо прочих достоинств новый язык был недоступен для посторонних – он был так сложен, что первые две сотни лет его изучения уходило исключительно на освоение алфавита, а посему не драконы, пожелавшие научиться этому языку, должны были для начала озаботиться вопросом собственного долгожительства, а желательно – бессмертия.
Однако в отдельных случаях, к которым, как вы сейчас увидите, относился излагаемый, традиция предписывала пользоваться именно древним вариантом драконьего. Хотя уважение к традициям драконы впитывают, еще сидя в яйце, именно это требование доставляло пожилым высококультурным драконам, к которым относился и древний Грау, немалые неудобства. Дело в том, что по современным меркам этот древний язык был весьма нецензурным. Например, та фраза, которую выдувают в рог рыцари, вызывая драконов на бой, в переводе означает примерно следующее: “Посылаю тебя на…”
Итак, голова в шаре произнесла:
– Совсем, блин, совесть потерял, Прохвост.
Древний Грау поморщился.
– Гыкашмур авелом анин, курдбк! (Не по понятиям наезжаешь, молокосос!) – проревел он и, подумав, добавил: – Гыкахым бздым. (А за базар ответишь.)
Дракон в шаре замешкался.
– Быргрым, э-э… покоргум, то есть поркорхум, э-э…
Древний Грау вздохнул еще раз.
– Может, все-таки будем говорить на современном драконьем? – предложил он.
– А как же традиция? – удивился дракон в шаре. – Положено ведь.
– Так по традиции ты мне и до вечера не объяснишь, что тебе надо, – возразил Грау. – Все равно нас никто посторонний не слышит и слышать не может.
– Ну, я прямо не знаю, – замялся дракон в шаре. – Дело-то ведь….
– Чего тебе надо? – прямо спросил Грау.
– Деревню у темно-зелено-дубового леса и заливные луга к ней, – выпалил дракон в шаре, собравшись с духом.
– Ну, ты даешь! – поразился Грау. – А половину моей сокровищницы в придачу тебе не нужно? Я этой деревней владел, когда тебя еще и в кладку не отложили.
– А пусть и так! – запальчиво возразил молодой дракон. – А мне что делать? Только из скорлупы высунулся, только крылья первый раз расправил, глядь, а кругом все уже расхватано, все уже поделено-переделено. А мне тоже, между прочим, жить где-то надо. Я, между прочим, такой же дракон, как и ты.
– Я вовсе не подвергаю сомнению подлинность твоего драконства, – примирительно сказал Грау. – И я всегда сочувствовал проблемам нашей молодежи. Но только не в том случае, когда эту проблему пытаются решить за счет моих владений. Сначала одна деревня, потом – вторая, а дальше? И вообще, почему ты выбрал для предъявления своих претензий именно меня? В дне полета, за Кривым холмом направо, один вампир живет, граф, так у него целых двадцать деревень. Почему бы тебе к нему не слетать?
– Ну уж нет, – твердо возразил молодой дракон. – Меня так уже не первый раз посылают. Короче, – он скосил глаза, стараясь не смотреть в сторону старого дракона, – назначаю тебе эту, как ее… разборку и забиваю эту самую… стрелку. Завтра утром на большом лугу за рекой.
Шар погас.
* * *
Большой луг за рекой, на котором было намечено Проведение недружественной встречи двух драконов, находился неподалеку от одного из человеческих поселений Запустенья и использовался местными обитателями для выпаса скота. Деревня называлась Дудинки.
Почему – точно не знал никто. Жители деревни туманно намекали на загадочную легенду, уходящую своими корнями в те невероятно далекие времена, когда деревья были большими, драконы еще не вылупились, а состояние Доставаки Билла не превышало десяти тысяч золотых. Однако поведать эту легенду посторонним они категорически отказывались. Жители окрестных деревень не менее туманно намекали на куда более позднюю и не совсем пристойную историю, в которой упоминался мул одного из дудинских Отцов Основателей, но поручиться за достоверность этой истории также не могли.
Именно дудинские пастухи в одно, вне всякого сомнения, доброе и прекрасное утро обнаружили на своем лугу двух мертвых драконов.
– Вот те на! – озадаченно сказал Старший Пастух Гоут Ктовец, обозревая поле жестокой битвы, в которое превратился его лучший выпас.
– Сдается мне… – начал один из пастухов.
– Ну?
– Один из ентих драконов…
– Который?
– Тот, что с краю.
– Ну?
– Смахивает на Старого Грау, то есть, – пастух испуганно оглянулся, – виноват, на господина Грааугржимерюканга.
– Врешь, – на всякий случай сказал Гоут, приглядываясь к крайнему дракону повнимательнее.
Основания усомниться в словах подчиненного у него были.
Во-первых, Старый Грау хотя и являлся полноправным властителем Дудинок, но очень не любил без особой необходимости покидать свою пещеру и показывался своим подданным на глаза только по самым большим праздникам. А они случались редко. За всю свою жизнь Старший Пастух удостоился чести лицезреть господина Грау всего два раза, причем в первый раз Гоуту Ктовцу было пять лет, а второй раз – двадцать восемь. Кроме этого, Гоут двенадцать раз видел драконов или кого-то очень похожего на них пролетающими высоко в небе, а один раз какой-то красный дракон приземлился на выгон, сожрал двух коров и пяток овец, нахлебался воды из реки и улетел, оставив на память о себе огромную кучу самого что ни на есть отборнейшего драконьего дерьма – вещи, ни на что, к сожалению, не пригодной и ужасно вонючей. К вящей радости Гоута, произошло это во время дежурства его сменщика – Второго Старшего Пастуха.
Во-вторых, хотя бой между драконами проходил согласно Уложению о Разборках, том 1, глава 18, параграфы с 1 по 25 включительно: “Допустимые средства мордоначищенья” – зубы и когти, никакого огненного дыхания и магических штучек, разрешено затачивать шипы на хвосте, если таковые имеются от рождения, а не выращены с помощью магии, – так вот, когда этими зубами и когтями, а также крыльями орудует здоровенный бронированный ящер, то получившееся в итоге бездыханное тело поддается опознанию весьма приблизительно. Даже если это тело такого же здоровенного бронированного ящера.
Так и не придя ни к какому определенному выводу, Гоут в итоге принял самое простое и естественное решение – переложить тяжесть принятия этого самого решения и связанную с ним ответственность на кого-нибудь другого.
– Значица, так, – повернулся Гоут к остальным пастухам. – Ты, ты и ты – бегом в деревню. Расскажете обо всем, что видели. Луки оставьте здесь.
В этом месте снова необходимо прервать ход повествования и кое-что пояснить.
Пастушеский отряд, находившийся под командованием Гоута Ктовца, насчитывал в своем составе четырнадцать человек и по вооружению и боевой выучке ничуть не уступал равночисленному отряду наемников, равно как и регулярной армии любого из Королевств. Как было экспериментально установлено людьми, имеющими несчастье обитать в Запустенье, это было совершенно необходимым условием для успешного выпаса деревенского стада, представляющего собой в глазах большинства лесных обитателей офигенную груду МЯСА.
О том, что являет собой Запустенье и кто в нем живет, рассказываться будет на протяжении всей книги. Вкратце же лучше всех сформулировал это странствующий друид Лайлак Дуболом: “Так называемое Запустенье – это место, где природа и магия совместно напомнили существам, мнящим себя разумными, что если долго и упорно дергать кого-нибудь за хвост, то на другом конце хвоста может объявиться его владелец”.
Так вот, расстояние, отделяющее выгон от ворот в укрепленном частоколе, который жители Дудинок именовали “оградой”, легко одетый подросток преодолевает бегом за восемь минут. Троим взрослым мужчинам в доспехах времени на это потребовалось вчетверо больше.
Нельзя сказать, чтобы новость о возможной кончине старого Грау обрадовала Дудинского старосту Вислоуха Обера очень уж сильно. Можно даже сказать, что она обрадовала его не совсем.
Дело даже не в том, что Вислоух вообще не любил новостей. Все-таки, будучи верховной деревенской властью, он волей-неволей должен был выработать определенную широту кругозора. Он даже допускал, что новости иногда бывают и хорошие. Более того, однажды он предположил, что, возможно, где-то хороших новостей бывает не намного меньше, чем плохих.
Но весть о предполагаемой кончине Грау – это Вислоух мог сказать абсолютно точно – относилась к разряду тех, которых Обер предпочел бы не получать вовсе.
С одной стороны, конечно, взимаемые, точнее, выжимаемые Грау налоги ложились весьма тяжким бременем на тощий дудинский бюджет. Однако, с другой стороны, Грау был злом очень хорошо – за последние триста с лишком лет – известным и знакомым, а вот его будущий преемник, который непременно объявится в очень близком будущем, – нет. И вообще: “Лучший способ избавиться от драконов – это завести своего”.
Припомнив в очередной раз это, давным-давно подслушанное им на ярмарке и запавшее глубоко в душу высказывание, староста вдруг вспомнил, что у их бывшего господина имелись родственники. Другие драконы. Которые, кстати говоря, могут весьма заинтересоваться обстоятельствами гибели своего, пусть и далекого, родича.
А раз так – требовалось незамедлительно принять все возможные меры, дабы господа драконы чего-нибудь…
Например, обеспечить господину Грааугржимерюкангу достойные похороны. А заодно и его сопернику – на всякий случай.
* * *
Додуматься до идеи вырыть “достойную” могилу двум, причем не самым мелким при жизни драконам, как выяснилось, намного легче, чем воплотить ее в жизнь.
– Клянусь дохлым огром, – выдохнул Жаба Партигген, с трудом переваливая содержимое своей лопаты через край ямы, – так мы и до завтрашнего утра не управимся.
– Вот еще – до утра, – отозвался Ушастый Вассеризель. – Как бы не так. Чего бы там Обер не изрекал, – на самом деле Ушастый выразился грубее, – а на этом поле меня после захода солнца и в помине не будет.
– Если до захода не успеем зарыть, – поддержал его Маультир, – то на эти туши такое сбежится… Такое…
– Угу, – согласился Жаба, вываливая очередную лопату. – Еще бы. Шоб на такие туши – и не сбежалось?
– Как я так смекаю, – задумчиво произнес Кругляк Зенгер, – что на частокол ныне, ну, в смыслах, ентой ночью, надо будеть двойную стражу поставить. Иль тройную – для пущего спокоя.
– “Для спокоя, для спокоя”, – передразнил его Вассеризель. – Будет тебе спокой, как же. Вот теперешнюю стражу бы сюда – тогда, глядишь, аккурат к темноте бы и закончили.
– А на частокол кого?
– Баб. Твою, к примеру, женку… – Ушастый заржал. – Как возьмет оглоблю…
Остальные – за исключением, понятно, самого Кругляка – тоже заулыбались, живо припомнив, как не далее третьего дня Зенгерова жена гонялась за муженьком по всей деревне, размахивая при этом если не оглоблей, то уж здоровенным дрыном наверняка, и поминутно охаживая этим самым дрыном точно промеж кругляшиных ушей.
Впрочем, надолго этих приятных воспоминаний не хватило.
– Обера бы сюда, – мстительно процедил Хромой Таузендфус, с остервенением вгрызаясь лопатой в неподатливую глину. – Пусть бы поковырялся. Глядь, жир бы и подрастряс.
– И то верно. – Партигген перевалил наверх очередную порцию грунта, воткнул лопату в дно ямы, оперся на нее и попытался рукавом рубахи стереть с лица пот, но добился исключительно того, что покрывавший его рожу слой грязи распределился по ней чуть более равномерно. – Пусть бы и сам староста эту землицу поковырял. Небось не загнулся бы от напряга. А то…
– Нет, ну клянусь дохлым орком! – взвился Ушастый. – Стража на частоколе, Вислоух, кузнец с подмастерьем, старичье, звонарь… Это ж сколько народу еще можно сюда пригнать! Так нет же! А мы тут надрывайся, как неродные!
– Шаха еще нет, – сообщил Маультир.
– Как нет?! – возмутился Вассеризель. – Почему нет?
– А он еще того… После вчерашнего… Дрыхнет еще, – ехидно заметил Жаба. – Небось до вечера так и проваляется.
– Проваляется?! – Ушастый швырнул лопату под ноги и принялся выбираться из ямы. – Я ему сейчас покажу “проваляется”! Я его всю дорогу до пастбища на пинках…
– Стой! – Кругляк попытался придержать Ушастого за край рубахи, но получилось это у него не совсем удачно – Вассеризель съехал вниз вместе с полупудом земли, за которую он цеплялся. – Праздник же у парня.
– Праздник был вчера, – хмуро заметил Жаба. – И вообще – пить надо меньше. А то дорвался, понимаешь. Правы были Отцы-Основатели – рано вас, сопляков, в семнадцать к спотыкаловке подпускать.
– Это его дядюшка Короед постарался, – встрял Маультир. – Выставил бочонок молодого вина, ну, того, что в позапрошлом месяце с ярмарки привез. А у него, у вина-то, нрав ведь известно какой коварный – льется в пасть, словно вода родниковая, а потом бах – и с копыт долой. А Шах-то…
– Сам-то ты, – проворчал Партигген, – можно подумать, давно усами обзавелся. Думаешь, девки не видят, что они у тебя углем подведенные?
– Ха! – Ушастый наконец выкопался из-под устроенного им обвала, но, к немалому удивлению остальных, не стал извергать по этому поводу проклятий, а наоборот – радостно осклабился.
– Я тут подумал, – сообщил он. – А ведь во всех Дудинках один Шах про это, – Ушастый мотнул головой в сторону драконьих туш, – ничегошеньки не знает. Вот смеху-то будет, когда он вечером проснется!
На этой реплике достоверно восстановленный ход беседы обрывается и вряд ли когда-либо будет продолжен. Если до нее показания всех говоривших были четкими и непротиворечивыми, то после слов “вот смеху-то будет” они моментально становятся сбивчивыми и путаными. Поэтому точно определить, кому же именно принадлежала та злосчастная идея, оказавшая столь большое влияние на дальнейшую судьбу как дудинцев, так и многих других обитателей Запустенья и иных земель, установить невозможно. Может быть (и даже вероятно), тайна сия ведома богам, но, как известно, боги очень неохотно делятся своими тайнами с кем бы то ни было, в том числе и с другими богами.
* * *
За всю свою жизнь Шах никогда раньше не предполагал, что самый обычный луч солнца – не такой уж и яркий – может вызвать столь жуткий приступ боли, причем не только в глазах, но и в голове. Вслед за головой взвыло все остальное тело. Шах было попытался озвучить эти ощущения соответствующим воплем, но звук, который он сумел выдавить наружу, даже за слабый стон мог сойти лишь с очень большой натяжкой.
– Вроде просыпается, – произнес кто-то, стоявший в изголовье, и эти слова мигом принялись грохочущим эхом носиться от одного шахова уха до другого: “Просыпается, просыпается, рыпается, ается…”
– Точно, просыпается, – согласился второй голос. – Ишь, какую рожу-то скорчил. Ему б щас кисленького чего-нибудь али солененького.
– Да где ж я после вчерашнего-то возьму солененького с кисленьким? – возразил первый голос, в котором Шах, несмотря на громыхание, начал узнавать что-то до боли – и еще какой! – знакомое. – Все, почитай, что было, то и подмели. Разве что у соседей спросить…
– И то верно. Слышь, Хеннок, сгоняй-ка к Плющикам…
Прозвучавшие имена показались Шаху смутно знакомыми, но попытка вспомнить что-либо поподробнее немедленно аукнулась еще более жутким приступом головной боли.
– Но я ж тоже хочу видеть…
– Цыц! – прикрикнул второй голос. – А ну дуй… Когда старшие говорят.
До Шаха донесся дробный топот, после чего на некоторое время воцарилась совершенно замечательная, можно даже сказать, блаженная тишина.
В какой-то момент Шах даже попытался провалиться обратно в забытье, из коего его вывело нечто холодное и мокрое, настойчиво тыкавшееся прямо в губы.
– Откушай огурчика-то, – настырно бормотали сверху. – Он хороший, огурчик-то. Враз полегчает.
Невероятным усилием Шах сумел разжать стиснутые намертво зубы и даже слегка прикусить просунувшийся между них предмет.
Первая капля холодного огуречного рассола, попавшая на раскаленную пустыню языка, должна была, по идее, немедленно испариться. Но за ней последовали другие, которые проделали в пересохшей гортани Шаха восхитительно влажную дорожку.
– Ы?
Так и не выпустив из зубов огурец, Шах медленно сел и попытался приоткрыть глаза.
Собравшиеся в комнате, числом не менее десяти, дудинцы переглянулись между собой и дружно начали выпихивать вперед дядюшку Подсмейла Корюшку.
– А… А чего я… – вяло попытался отбиться он.
– Тише! – зашикали на него. – Договорились же.
Одарив своих сообщников особо многообещающим взглядом, дядюшка Подсмейл встал перед Шахом, терпеливо дождался, пока тот сфокусирует на нем взгляд замутненных голубых глаз, набрал в грудь побольше воздуха и начал:
– Дорогой Шах! Нет таких слов, какими мы, твои односельчане, могли бы выразить переполняющее нас восхищение. Своим геройским – да, я не побоюсь этого слова, ибо другое здесь неуместно, – именно геройским поступком ты потряс наши души до самого их основания. Никто из нас, – Корюшка широким жестом обвел комнату, – даже и помыслить не мог о том, чтобы в одной деревне с нами мог родиться и вырасти человек, способный на такое! Мы все, как один человек…
– А?
Дядюшка Подсмейл на миг запнулся.
– То, что ты совершил, – снова начал он, старательно пытаясь перекрыть нарастающее за спиной хихиканье, – навсегда…
– А-а… Я что-то совершил? – заплетающимся языком осведомился Шах.
В комнате повисла мертвая тишина.
– Кхы-кхы-кхы, – нарушил ее стоящий справа от Корюшки Нитрам Рожь, старательно пытаясь запрятать за кулаком растекающуюся до ушей ухмылку. – Вообще-то ты…
– Совершил самое великое на моей памяти деяние, – возвысил голос дядюшка Подсмейл, краем глаза с ужасом наблюдая, как трясущийся от хохота Нитрам перегибается пополам.
– Ты принес нам самый дорогой дар, который только есть на этом свете – свободу!
– Какую… свободу? – выдохнул Шах.
Даже сквозь туманную завесу продолжавшейся головной боли до него начало доходить, что вокруг происходит что-то глубоко не то. И именно он является центром этого самого происходящего “не того”.
– Свободу от самого гнусного, зловещего, коварного и ужасного поработителя, какого только знал Мир! – громко, ибо смешки за спиной также становились все громче и громче, провозгласил Корюшка. – Древнего проклятья наших предков, нас и благодаря тебе уже не наших детей – черного дракона Грааугржимерюканга!
– Ч-чего?
– …Без всякого оружия ты вышел на ратное поле и голыми руками одолел саму смерть, мчавшуюся на тебя с распахнутыми крыльями. И когда первый дракон рухнул с небес…
– Гляньте! – выкрикнул стоявший в углу Эмиль Глаумат, который ясно чувствовал: еще одно слово, еще миг речи дядюшки Подсмейла, и он сам не хуже дракона рухнет и забьется в истерике. – Его руки! На них нет даже царапин! Это чудо!
– Чудо! Чудо! – подвывающими голосами поддержали его остальные. – Истинное чудо!
Дядюшка Подсмейл схватился за горло, словно собрался придушить себя на месте.
Кто-то снаружи заколотил по окну.
– В самом деле, – прохрипел Корюшка, продолжая хвататься за горло. – Там же все, почитай, Дудинки собрались. Народ, понимаешь, хочет видеть и знать своих героев.
– Боги, – простонал Шах. – Дядюшка Подсмейл, о чем вы? Опомнитесь. Я… Старый Грау… Герой… Я же ничего не понимаю!
– А тебе, – заявил Нитрам Рожь, – вовсе и не надо ничего понимать. Ну-ка, парни, помогите герою подняться.
На крыльце свет был еще более убийственно ярким, но, прежде чем Шах успел зажмуриться, на него с визгом налетело что-то цветное и пахучее, яростно расцеловало в обе щеки, впилось в губы и напоследок повисло на шее.
– Шахок! – радостно завопило это “что-то”, и Шах с ужасом осознал, что Морри Харрикейн, Морри-Тайфун, одна из самых красивых девушек села, о робком прикосновении к которой он до сегодняшнего дня лишь тайно мечтал, висит у него на шее.
– Я всегда знала, что ты станешь кем-то великим. И… – Морри несколько раз моргнула своими синими глазами и потупила их – не из скромности, как подумал Шах, а исключительно для того, чтобы не дать ему разглядеть плясавшие там смешинки. – Знаешь, на самом деле ты мне уже давно нравился. Честно-честно.
– Морри, – если бы Шаха не поддерживали, он бы рухнул прямо на крыльце вместе с девушкой. – Я…
– Дорогу старосте! Дайте пройти старосте!
Собравшаяся вокруг толпа чуть раздалась, и из нее важно выплыл Обер – в праздничном церемониальном наряде, надевавшемся им всего несколько раз в год.
– С-староста, я… – успел побулькать Шах, прежде чем Морри заткнула ему рот очередным поцелуем.
Вислоух спокойно дождался окончания поцелуя, поднял вверх священный посох Отца-Основателя и, запрокинув голову, провозгласил:
– Слава герою!
– Слава! – подхватила толпа вокруг. – Слава! Слава! Обер терпеливо подождал, пока крики и свист постепенно затихли.
– Я очень рад, – начал он, – что именно в этот год, год моего скромного управления, среди нас нашелся человек, чье имя и подвиг, вне всякого сомнения, прогремят на весь Мир. Ибо даже в древних летописях эльфов немного отыщется деяний, каковые могли бы сравниться с тем, – посох описал плавную дугу и обвиняюще уставился на Шаха, – что совершил сей отважный юноша.
– Б… Боги… – простонал Шах.
На какой-то миг его озарила спасительная мысль, что все происходящее – это просто сон, вызванный все тем же злосчастным молодым вином. Но все вокруг было настолько ярким и реальным…
– Так пусть же герой, – провозгласил староста, – сам посмотрит на дело рук своих. Слава герою! Слава!
– А-а-а! – отозвалась толпа, вознося Шаха над собой.
Пару часов назад, когда стало окончательно ясно, что закончить рытье могил до наступления темноты не представляется возможным, Обер приказал прекратить раскопки и бросить все силы на сооружение временного частокола вокруг туш. Поэтому тела обоих драконов предстали ошеломленному взору Шаха во всей своей первозданной красе. – Но… как… кто…
– Ты, ты! – дружно заверила его группа поддержки.
– Нет! – в отчаянии Шах схватился за голову. – Нет, этого просто не может быть!
– Но ведь есть! – проорал ему кто-то в самое ухо и для пущей убедительности подкрепил свои слова могучим шлепком по спине.
– Но я этого не помню! – завопил Шах.
– Зато мы помним! – проорал все тот же голос. – А нам, твоим односельчанам, виднее, чего ты делал, а чего – нет!
– Либо я сошел с ума, – пробормотал увлекаемый поближе к драконьим телам Шах, – либо свихнулись все вокруг.
Он не вспомнил еще об одной, наиболее вероятной возможности – свихнуться мог сразу весь мир.
* * *
Перед самым рассветом с западной стороны дудинского частокола слетел какой-то небольшой предмет, при более пристальном рассмотрении оказавшийся полупустым дорожным мешком. Дежурные на башнях, занятые в основном придерживанием челюстей во время очередных зевков, не заметили ни его, ни маленькой серой фигурки, ловко спустившейся следом.
Шах – а это был именно он – подхватил мешок и опрометью рванулся к темневшим неподалеку зарослям бесополоха.
Спустя пять оч-чень долгих для него минут он выбрался на один из двух трактов, кое-как соединявших Дудинки с остальным Миром, и в последний – как он сам наивно полагал – раз оглянулся на родное селение.
– Я должен, – пробормотал Шах. – Я должен, должен, должен.
Кому, что и сколько именно он должен, не знал ни сам Шах, ни даже боги. Однако если бы эти боги вдруг захотели наградить его даром магического взора, то, обернувшись, Шах без особого труда смог бы различить на фоне разгорающегося восхода растянутый в радостной ухмылке лик Судьбы.
Как известно, этот жестокий бог тоже иногда любит пошутить.
* * *
В пылу боя Шон даже не заметил, что его убили.
Конечно, кое-кого этот факт может весьма сильно удивить. Смерть, причем не чья-нибудь, а своя собственная, – вещь, которую не заметить довольно сложно при всем желании. Однако наш мир, сотворенный кучей различных богов, каждый из которых преследовал при его создании свои собственные цели, порой ведет себя весьма загадочно, а уж Запустенье и вовсе не из тех мест, где можно рассчитывать на то, что загробная жизнь будет хоть самую малость поспокойнее догробной.
Итак, меч Черного Паладина сверкнул на солнце перед самым лицом Шона, и… вроде бы ничего не произошло. Шон даже не успел удивиться. Он продолжал драться, тем более что Черный Паладин, проведя один удачный выпад, вдруг замер, уставясь на что-то, возникшее у Шона за спиной. Простоял он так не больше мига – именно столько потребовалось Шону, чтобы разрубить его от плеча до поясницы, после чего Шон прыгнул вперед, разворачиваясь на лету.
В первый момент ему показалось, что Черный Паладин просто пытался сблефовать – ни черного дракона, ни плевоскропа, ни даже завалящего колдунца на поляне не наблюдалось. А затем Шон увидел на окровавленной траве свое собственное тело и голову – отдельно от него.
Зрелище было еще то.
Шон с размаху плюхнулся на землю и старательно потряс головой, не той, понятно, что лежала на земле отдельно от тела, а той, которая по какому-то неизъяснимому капризу богов оставалась у него на плечах.
– О-хо-хо-хо-хо…
Он внимательно осмотрел себя. Одежда на “нем” была точь-в-точь такая же, как и на безголовом трупе. Руки по-прежнему сжимали рукоять меча, привычно ощущая каждую шероховатость.
– Б-р-р-р!
Есть от чего свихнуться. Шон огляделся вокруг в поисках лошади Черного Паладина, из-за набитых седельных сумок которой и начался бой. Если в этих сумках завалялась бутыль хоть какого-нибудь вина… Да хоть чертова эликсира! Любой жидкости, которой можно промочить горло! Однако проклятой твари нигде не было видно.
Шон заскрипел зубами.
– Ну почему это должно было случиться именно со мной?
– А почему бы и нет? – отозвался кто-то рядом с Шоном и сам же ответил: – По кочану.
Шон вскочил, рубанул по останкам Черного Паладина и заозирался вокруг.
– Ну, чего прыгаешь, как козел? – грубо осведомился неизвестный.
– Да кто ты такой? – взвыл Шон. – Покажись, прах тебя побери!
– Прах меня и так поберет, – откликнулся голос. – А показаться я не могу. Облика у меня нет. Я – твой Совесть.
– Врешь. Совесть я пропил в день, когда мне стукнуло тринадцать.
– Тогда ты меня пропил в первый раз, – обвиняющим тоном заявил голос. – Последний – когда тебе исполнилось сорок три. А всего за эти годы ты пропивал, проигрывал в карты, топил в реке, душил, закапывал, травил и умерщвлял меня десятками иных способов четыреста тридцать семь раз.
– Живучий же ты гад, – заметил Шон.
– Еще бы, – мрачно отозвался голос. – Я же не чей-нибудь, а великого героя Шона А'Фейри. Знаменитой на все Запустенье Рыжей Погибели. Еще бы мне не быть живучим.
– А что ж ты молчал до сих пор?
– А ты хоть раз дал мне заговорить? – возмутился Совесть. – За всю жизнь ты не совершил ни одного совестливого поступка.
– Как же! – обиделся Шон. – Не далее как неделю назад я по пьяни подарил одной шлюхе кошель с десятью золотыми!
– И это ты называешь совестливым поступком?! – Если бы Совесть все-таки имел телесный облик, то этому облику сейчас угрожала серьезная опасность лопнуть от возмущения. – Да ты… ты…
– Теперь я понимаю, почему после двух кувшинов меня всегда тянуло стать проповедником, – проворчал Шон. – Не иначе как твое влияние.
– Одно меня радует, – заявил Совесть. – Я от тебя наконец избавился.
– Это почему же?
– Да потому, – завопил Совесть, – что у покойников нету совести. А ты покойник, покойник, покойник, покойник…
Судя по интонации вопля, если Совесть и сожалел о чем-то, так это о невозможности сплясать на Шоковых останках что-нибудь зажигательное.
– Ктрегуруп, – выдал Шон одно из своих любимых ругательств, которое в переводе с современного драконьего означало: “Три тысячи необычайно крупных клопов-вонючек, сдохших примерно неделю назад”.
– Если я покойник, то что “это”?
– Твое тело, баран.
– А я?
– А ты, – медленно, смакуя каждое слово, произнес Совесть, – просто ничтожный, жалкий, никому не нужный призрак. И я страшно рад, что из всех наложенных на тебя проклятий великие боги решили остановиться именно на проклятии Федыркжчинса!
– Какое, какое проклятье? – переспросил Шон.
– Федыркжчинса, – повторил Совесть. – Того самого старого, больного, несчастного дракона, которого ты со сворой тебе подобных убил в самом начале своей карьеры за пригоршню, о нет, даже не золота – серебра!
– Ты хочешь сказать, – взвыл Шон, который наконец вспомнил старого дракона, равно как и сумму, доставшуюся ему после дележа сокровищницы, – что я обречен леший знает на что из-за тридцати сребреников? Да на это даже бога приличного не купишь!
– Именно, – сказал Совесть и исчез. Некоторое время Шон тупо вслушивался в окружающую тишину.
– Старый навозный жук, – выругался он после продолжительного молчания. – По справедливости ты должен был быть на моем месте. Ведь это ты, мой Совесть, должен был за все отвечать!
Однако Совесть Шона уже не интересовался мнением своего бывшего хозяина. Он был далеко-далеко, в том заманчивом раю, куда попадают Совести всех подонков, мерзавцев, прелюбодеев и прочего неприятного в общении люда и нелюда. Учитывая те муки, которые Совесть снес за время жизни Шона, его в этом раю должны были как минимум канонизировать.
Шон посидел еще немного, прислушиваясь, не пожелает ли еще кто-нибудь сбежать с затонувшего корабля, но остальные чувства либо еще не обрели столь ярко выраженную индивидуальность, либо предпочли удалиться молча.
Мысли, которые заходили навестить Шона в сей скорбный час, были сплошь мерзкие и гадостные. То есть те, которые может навеять вид собственного обезглавленного тела. В конце концов Рыжей Погибели это надоело, и он решил, что было бы совсем неплохо похоронить себя.
Хотя при жизни Шон никогда бы не называл в числе своих загробных занятий рытье могилы самому себе, справился он с этим довольно быстро. Могилу он выкопал глубокую и, как решил Шон, вполне уютную. Поверх своих бренных останков он насыпал величественный холм, вершину которого увенчал мечом, после чего отошел полюбоваться на дело рук своих. Получилось – неплохо.
Но, чем больше Шон смотрел на свою могилу, тем больше грызло его какое-то смутное беспокойство. Что-то во всем этом было неправильно.
В конце концов Шон оглянулся по сторонам, вздохнул, выдернул меч из холма и повесил его на спину, точь-в-точь как он это делал при жизни. Стороннему наблюдателю, если бы таковой присутствовал, показалось бы, что меч повис в воздухе.
– Ты-то как лежишь, так и будешь лежать, – сказал Шон могильному холму. – А мне добрый меч пригодится. Еще.
Возможно, лежащий в могиле покойник и мог бы возразить что-либо по этому поводу, но Шон не стал проверять – случится это или нет. Он повернулся и, не оглядываясь, зашагал прочь.
* * *
На вурдалака Шон наткнулся у самой дороги. Тот был настолько увлечен своим занятием – сидением в засаде, что вряд ли заметил бы Шона, даже если бы тот был живым и во плоти. Впрочем, хотя сам Шон теперь спокойно проходил сквозь любые заросли, висевший на его спине меч цеплялся за них ничуть не хуже, чем его хозяин при жизни. Однако, как уже было сказано, вурдалак был очень занят.
Надо заметить, что вурдалаки пользуются заслуженной нелюбовью всех, включая даже сородичей по кровопийству. Дракон, демон, человек, гоблин или вампир при встрече с вурдалаком поведут себя совершенно одинаково – прибьют его на месте. Единственное, что может удержать разумное существо от убийства вурдалака, – это уровень свойственной этому существу брезгливости.
Вурдалак, на свое несчастье оказавшийся на пути у Шона, был редкостно отвратен даже по сравнению со средним представителем своего вида. Выглядел он как жертва Магии Массового Поражения, причем всех пяти видов одновременно. Кожа его – точнее, те ее куски, которые еще сохранились, – была бледно-серого цвета в зеленых пятнах. Впрочем, кожа вурдалака – это единственная его часть, на какую можно было смотреть, не рискуя лишиться всего выпитого и съеденного, начиная со вчерашнего ужина.
Занят же этот омерзительный тип был тем, что, тихо шипя и приплясывая на месте от нетерпения, поджидал, пока его ни о чем не подозревающий обед подойдет поближе.
Однако именно в тот момент, когда вурдалак приготовился к прыжку, на его горле внезапно сомкнулись две невидимые, но вполне реальные ладони. И последнее отвратительное дело, которое упырь успел сделать в своей жизни, – это умереть под противный хруст ломаемых шейных позвонков.
На всякий случай Шон продолжал откручивать голову твари до тех пор, пока она с мерзким чавкающим звуком не оторвалась от тела, после чего зашвырнул ее подальше в заросли, а тело разрубил на несколько десятков кусков. Для полной гарантии невоскрешения твари надо было бы развести под этими кусками хороший костер, но, во-первых, лето выдалось на редкость сухое, и небольшой погребальный костер мог запросто перерасти в здоровенный лесной пожар, а во-вторых, добыть огонь Шону было нечем. Поэтому он ограничился тем, что нанизал останки вурдалака на сучья соседних деревьев. В этом случае жаркое летнее солнце должно было стать его союзником, так как воскреснуть из вяленой вурдалачины ничуть не менее затруднительно, чем из хорошо прожаренной.
Завершив изничтожение мерзкого отродья, Шон наконец обратил внимание на бедного странника, который только что едва не удостоился сомнительной чести стать главным и единственным пунктом обеденного меню.
Странник, выглядевший, как самый обычный деревенский паренек, медленно брел по дороге, усиленно оглядываясь по сторонам и шарахаясь то вправо, то влево – в зависимости от того, с какой стороны дороги доносился очередной стра-ашный звук.
Пареньком этим был Шах.
Нельзя сказать, чтобы вид Шаха удивил Шона очень сильно. В конце концов, Шон А'Фейри и при жизни-то мало чему удивлялся, а уж приключившееся с ним за сегодняшний день даже у эльфа могло начисто отбить способность удивляться чему-либо. Однако вид Шаха его, скажем так, заинтересовал.
Дело в том, что передвигаться по дорогам Запустенья было, мягко говоря, небезопасно. Кроме разнообразной лесной живности и нежити, мечтающей в основном о завтраке, плавно переходящем в ужин, на дорогах Запустенья встречались:
Герои. Как явствует из примера Шона, встреча с героем, особенно героем поиздержавшимся, могла весьма нежелательно сказаться на здоровье встретившегося.
Разбойники. Банды разбойников могли состоять как из существ одной расы: людей, орков, гоблинов или темных эльфов, так и быть смешанными. Кроме этого, были банды, объединявшие, например, верующих в какого-то одного бога, банды, состоящие из бывших наемников, окончательно утративших статус воинского подразделения, а также банды амазонок. С теми, кто им попадался, разбойники поступали по-разному, однако процент выживших практически всегда оставался прискорбно низок.





















